Журнал литературной критики и словесности» продолжает публикацию в разделе «Классика жанра» цикла избранных статей известного литературного критика, доцента Литинститута, ушедшего от нас осенью 1998 года…
Владимир СЛАВЕЦКИЙ (1951-1998)
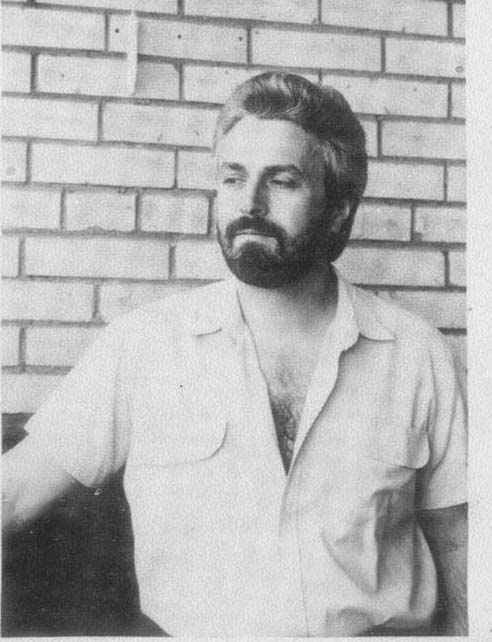
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 80-90-х годов XX ВЕКА (тенденции, развитие, поэтика)
Часть 3
ДВЕ ОБЛАСТИ — СИЯНИЯ И ТЬМЫ
(Романтическое двоемирие в современной поэзии)
В окружившей нас тревожной неразберихе событий, при неразличимости сколько-нибудь оформленной человеческой судьбы, необходимой для связного, развернутого повествования, лирика, питающаяся лишь отдельными переживаниями, состояниями характера, окажется, пожалуй, более живучей в сравнении с прозой. Мне резонно скажут: что-то не видать повода для светлых лирических порывов, но, с другой стороны, если лирика — это мир «эго», то сейчас, когда слово «выживание» наполнилось своим экзистенциальным смыслом, — поводов для «эгоистического» сумеречанья сколько угодно.
Во всяком случае строки Евгения Баратынского: «Две области — сияния и тьмы / — Исследовать равно стремимся мы» — вспомнились, думаю, не случайно.
Конечно, прозаичное, наукообразное слово «исследовать», хранящее след аналитического стиля автора, далековато и от сладкозвучного «бельканто», и от стихийной цельности… Но напомнил этот глагол, что лирике может быть присущ и известный аналитизм (пусть в специфическом преломлении), считающийся прерогативой прозы.
Строки написаны были, когда «век шествовал путем своим железным» и наступила, казалось, пора «последнего поэта». Когда мифологические представления, сформировавшие художественную метафорику и саму поэтическую грамматику, давным-давно перешли в сферу литературных приемов.
Хотя чистые приемы должны бы состариться, износиться и навсегда исчезнуть…
Но ведь почему-то напомнил тот же Баратынский о самых изначальных культовых истоках стиха, называя поэзию «святой», говоря о таинственной власти гармонии и о способности — подобно древним заговорам — врачевать болящий дух. Вероятно, кроме вполне современного поэту романтического двоемирия, кроме тоски по гармонии, здесь обнаруживается отзвук архаических представлений об умении поэта космизировать мир через разъятие и последующее синтезирование, о способности странствовать как в светлом, дневном, так и в ночном, темном царстве вплоть до царства мертвых, что обнаружилось не только в мифе об Орфее, но и в позднейших грандиозных космогониях, картинах иных миров — от «Божественной комедии» до «Розы мира». Переход мифопоэтических представлений в эстетическую сферу — поэтику, стиль, литературные мотивы — не отрицает генетической памяти об этих воззрениях, не отменяет полностью их значимости, о чем определенно свидетельствуют стихи В.Ходасевича «Века, прошедшие над миром» (1912), где говорится о неизбежности Орфеева пути:
Века, прошедшие над миром,
Протяжным голосом теней
Еще взывают к нашим лирам
Из-за стигийских камышей.
И мы, заслышав стон и скрежет,
Ступаем на Орфеев путь,
И наш напев, как солнце, нежит
Их остывающую грудь.
Концовка же — о неизбежном разладе между очищенной во времени красотой мифа и надрывными, неприбранными страстями нынешнего века:
Но горе! мы порой дерзаем
Все то в напевы лир влагать,
Чем собственный наш век терзаем,
На чем легла его печать.
И тени слушают недвижно,
Подняв углы высоких плеч,
И мертвым предкам непостижна
Потомков суетная речь.
Вот тут где-то молодой поэт нащупывал то, что иногда называют диалектикой, соотношением, взаимодействием вечных тем и образов с новыми впечатлениями, то приращиваемыми к вечным, а то и вполне преходящими.
Извечное соседство, борение, притяжение-отталкивание жизни и смерти, любви и ненависти, лжи и истины, добра и зла «подпитывают» генетическую память стиха, способность духовно возноситься к свету и нисходить во тьму, исследовать «две области», поэтически расчленять и объединять их, вновь и вновь рождая поэтические образы и споры вокруг этих образов.
По эту сторону
Странствовал по миру юный великан, «лось», как говорят в народе, странствие души развертывалось на слишком большом пространстве, чтобы всматриваться в детали мира внешнего или тонкие переливы внутренних состояний. Виктор Астафьев давно заметил его стихи и включил в свою антологию «Час России». Поэта в Сергее Гонцове выдавали широта и свобода дыхания, масштабность видения и притязания, запас воли и пытливости:
Встану и миром пойду,
Чуть заграждая рукой
Пламя свечи, как звезду.
Господи, кто я такой?
(«Встану и миром пойду…»)
Отношения его с природой напоминали нам о древнем образе покорителя стихий; не удивительно, что на столь широком фоне и сами стихии воспринимались как «частности», ведь даже молнии уподоблялись домашней утвари, подвластной человеку:
И молнии в углу долины
Лежат, как скарб полу земной…
(«Великий мир передо мной…»)
И даже ангелы, летая (пусть и «вдали»), едва не задевали его крылом, как некие пичуги, птахи небесные:
Шатер земного небосвода.
Весь мир как дерево в пыли.
Шумит неверная свобода.
Летают ангелы вдали.
(«Тризна»)
По масштабности лирического пространства он, чувствуется, младший брат Юрия Кузнецова (ну, может быть, двоюродный), но именно младший, родившийся в иное время и получивший иной опыт, иные впечатления. Во всяком случае его диалог с Богом не столь обиженно-надрывен, а где-то даже предполагает и взаимопонимание. Да и окружающий мир изначально не столь безнадежно бесприютен.
Но… не все же силушкой тешиться да с ангелами молниями перекидываться. И в этой же юдоли — по мере ее познания — появляются совсем иные ощущения. Ведь спрашивая: «Где душа пропадала, крылами затмясь от стыда?» — поэт одновременно и отвечает: душа — крылатая, от роду ангелоподобная — была «пропащей», пребывала в нетях, в безвременье, бездомности, бездорожье, немоте, мраке, унижении и
Приникнешь к стеклу — там подводные лица горят!
Расплющено все — и значенье, и воля, и слава.
На что уповать? На каком языке говорят
И страсть, и сомненье, и скорбь, и любовь, и забава?
……………………………………………………………………………
В бараках гулянка. Расплющены вера и плоть.
Собор Александра Святого уходит к созвездьям
Всей мглой безъязыкой…
(«Зеленого мира поклонный и набожный свет»)
Это видится и говорится будто бы из владений Морского царя, куда попал гусляр Садко (русский аналог Орфея), из-под толщи, мглы подводной, которая все поглотила, раздавила, расплющила, но из которой, прилагая духовные усилия, нужно вырваться, восстать, воспрянуть, всплыть, подняться туда, куда указывают купола Собора.
Есть, впрочем, и другой, еще более определенный, не требующий толкования вариант среды обитания:
Я хватился всего среди ночи и дня
В перебитом пространстве, разящем козлом…
(«Девяностый псалом»)
Причем «разящий козлом» ад не в каком-то ином месте; в мире вполне здешнем происходит борьба светлых и темных сил, в здешнем мире душа блуждает во мраке, и в этом же мире она должна найти выход, обрести себя, освободиться от чувства, что живет под «чужими небесами». В здешнем мире нет свободного от зла заповедника, резервации, но все-таки зло не всесильно, коль возможна внутренняя опора: молитва, псалом «Живый в помощи Вышняго» — защитник воинов, в коем всякий обретает надежду и твердость духа.
Забери мою душу, прерви мою плоть,
Все останется дух под свободным крылом,
Хоть велик Сатана и спокоен Господь,
Но спокойней всего девяностый псалом, —
так завершается стихотворение «Девяностый псалом». И то, что псалом —создание псалмопевца Давида, укротившего злого духа, вселявшегося в Саула, тоже немаловажно, потому что косвенно автор окликает сверхобычные способности другого поэта.
Уже писали об известной эпичности Гонцова (Н.Шипилов в «Литературной учебе» № 2 за 1990 года и автор этих строк, под псевдонимом С.Владимирский, в № 3 «ЛУ» за 1991 год). Имелся в виду как раз характер мировидения и обращенность к эпическим временам и символам, и стихи его прежние были размашистыми и многострофными, символы — когда емкими («в сыром космическом бараке»), а когда расплывчатыми и неточными. Да, нельзя не сказать о том, что путь Гонцова к полновесному слову лежит между Сциллой поэтических «красивостей» и Харибдой рифмованной публицистики (пусть даже «православной»).
Обезглавленный дракон истории — трагический и по-своему сильный образ (дракон даже сам себя «пожирать» не может, нечем) — симптоматичен для современных умонастроений, но изрядное количество парчи и бархата, появившееся от созерцания византийских церковных риз, невольно заставляет вспомнить — из-за некоторой декоративности своей — и о халате (то ли китайском, то ли японском, но о-о-очень красивом).
Ныне мы застаем поэта за поиском плотности стиха и образа.
Восьмистиший «Под перезвоном ранних поездов», «Мне варварское время надоело», «Возвышенного трепет вековой», «Дракон», «Так вот свобода!..» в прежнее время автору было бы достаточно, чтобы «растянуть» на многие строфы. Сейчас все уплотняется, спрессовывается, пружина сжимается, что чувствуем в семистишии «Поворот незримого ключа» — с его уплотняющей, сжимающей сквозной рифмовкой, с пропуском «лишних» логических звеньев и предельно лаконичным синтаксисом, умещающим три предложения в одном ритморяде:
Поворот незримого ключа,
Синий бархат, дивная парча.
Мощной книги первая страница.
И прочтешь полмира сгоряча.
Отрываясь мыслью — от зверинца,
Духом от столетья-палача;
Вот земля. Вот книга. Вот свеча.
Предполагается, что теперь многое должно не проговариваться, а подразумеваться. Кажется, наряду с «мощной книгой» (Писанием) и классикой XVIII—XIX вв., автор «читает» и стихи Мандельштама о «веке-волкодаве». Хотя в целом, запечатлевая соотношение «этого» и «того» миров, зримого и незримого, реального и тайного, поэт остается верен себе; как раньше он находился с ангелами в одном пространстве, так и сейчас он «по эту сторону любви», но — живую, светлую, дневную. Что ж, и на средневековых иконах два мира — видимый и невидимый — сосуществовали одновременно и на общей территории.
И сейчас здесь еще возможны, по Гонцову, прощение и спасение:
Я где-то рядом: позови!
Плывут блаженные мгновенья
По эту сторону любви,
По эту сторону спасенья…
(«По эту сторону»)
У черной дыры
Со стихами Сергея Гонцова так и просятся в сопоставление стихи Ивана Шепеты. Самый поэтический эгоизм у них разного свойства: один уверен, что ему все простится за великанское обаяние, другой — за «разочарованность».
Если первый разбросанно щедр, то второй афористичен и парадоксален:
Как же так? Отборнейший народ
в эту землю лег костьми, как зерна,
неужели вышел недород?
(«Девяностый псалом»)
Суховат, аналитичен и бритвенно точен:
Тот повесился, а этот
ночью темною забит:
смерть на взлете — это метод,
коль не хочешь быть забыт.
(Не знаю, откуда у меня взялся этот эпитет «бритвенно» — возможно, от общего содержания стихотворения «Неизвестные поэты», вернее, от этих слов «смерть на взлете»?)
Если Гонцов видит разлитое и в этом мире сострадающее начало, то к Ивану Шепете мир повернут объективным безразличием. Отчужденность, отстраненность мира, где некого «любить» и «помнить», грозит опустошением, холодным отчаянием:
,:, …Но сердцу моему,
любить желающему, помнить,
та объективность ни к чему —
ей бездны сердца не заполнить.
(«Под шум березы»)
Где-то здесь самый чувствительный, самый ранимый нерв поэзии Шепеты: сердце, желающее любить, но и сердце-бездна, ничем не заполненное и не заполняемое. А если вспомнить другие стихи:
… ясно уже не вполне:
я гляжу, или это природа глядит
на свое отраженье во мне…
(«От чего так влечет к себе эта струя?») —
то эта зеркальность наведет на мысль о некой тождественности, что ли, объективной бездны природы (вообще — всего окружающего мира) и сердца человеческого.
Если Гонцов допускает сосуществование двух миров на одной территории, то Шепета усугубляет трагичность двоемирия; он подозревает о неких метафизических щелях, зияниях, зазорах, через которые можно «попасть» в четырехмерное пространство. Но раскрыть иной мир, вытащить его на всеобщее обозрение или громогласно разглагольствовать о нем — ни-ни; он непроницаем, закрыт наглухо и отрезан начисто. Не так уже безобидны и безопасны эти разговоры, заигрывания, заглядывания.
Скупо информативные, прозаичные, совсем лишенные «красоты» строки приобретают жутковатую выразительность. Потому что, сколько ни изощряйся в познании и умствовании, — конец известен; неистребим и всегда «актуален» ужас смерти, забвения, полного исчезновения — без всякого следа и памяти (а тогда и стихи можно не отделывать):
Да что там памятник! Весь мир,
как долгий взгляд сольется в точку,
нырнет в одну из черных дыр
и там расправит оболочку.
И в обновленном мире том
настолько все будет иначе,
что даже знания о нем —
и те ничто не будут значить.
(«Под шум березы»)
Но и отвернуться нет сил от «черной дыры», от (по другому варианту) «прозрачного дна», что притягивает, искушает, заманивает, «имеет какую-то странную власть» над поэтом. Тем более что одновременно идет заглядывание и в запредельный мир, и в самого себя; вернее, заглядывания эти, миры эти совмещаются.
Таким образом, «два мира» сталкиваются не в сторонней объективной действительности, а — как это и происходило всегда в русской литературе — в душе самого лирического субъекта: страшно заглянуть и в собственную душу, в «бездну сердца» (или бездночку?) где «черная дыра» тоже обосновалась.
Отсюда — одергивание себя и других:
Не говорите резких слов
по поводу иных миров.
(«О многогранности истины»)
Не берите на себя дерзости утверждать, что нездешнего предела нет, но не беритесь и с безответственной легкостью разгадывать загадку четырехмерного пространства. Ведь
..: взглядом может охватить
все грани сразу только Бог,
а человек — не больше трех.
Отсюда, впрочем, ирония и самоирония над праздными разговорами по этому поводу:
Для тех, кто любит диалог,
всегда есть повод и предлог,
и крутят куб умы до дыр —
на том и вертится наш мир.
Чего стоит излюбленное в интеллигентски-журналистском обиходе словечко — «диалог», непоэтичные слова «предлог», «повод», «дыр» и, наконец, — «куб», сводящий таинственное четырехмерное пространство к игрушечному кубику Рубика!
Желчная усмешка поэта вызовет разное отношение читателей. И уже вызвала столкновение критиков. Один автор, И.Ростовцева, например, считает, что «подход к миру, вмещающий в себя «рrо» и «соntra», реальное и воображенное… расширяет его (Шепеты — В.С.) художественный горизонт», хотя и подозревает, что в черную дыру поэт нырял в сопровождении карамазовского черта (раньше в запредельные миры мог сопровождать поэт — Вергилий, например).
Другой автор, А.Хвалин, споря с первым, однозначно утверждает, что при обращении к фундаментальным вопросам бытия не может быть и «за» и «против»: тут «или» — «или»: «Надо решать. Ибо, как говорится в одной мудрой сказке, на свете жить, кому-нибудь одному служить — либо светлому дню, либо черной ночи». К такому выводу приходит критик-сверстник, уверенный, что «космос не только разумен, но и одухотворен; Гармония и Любовь направляют ход звезд и ежечасно дают всякому человеку свободу выбора…» Эта уверенность делает критику честь, могла бы сделать ему честь и сама учительно взыскующая интонация, если бы необходимость выбирать он не путал с тем, что поэт, по Баратынскому, вес же обязан «исследовать» «две области».
Меж тем интонация поэта, позволяющая ему в лучших стихотворениях удержаться от пошлости и тривиальности, суховата, буднична, сдержанна («шепчущая» фамилия автора оказалась «говорящей»!), чуть не сквозь зубы, во всяком случае — вполголоса произносится: «Не говорите, что дурак / поэт, скитавшийся не здесь: / все, что он видит, тоже есть» (и никаких подробностей о странствиях). Ведь когда мы читаем: «в числе живущих Бога нет», — то выделяем «живущих», то есть смертных, среди которых и впрямь нет носителей окончательной истины.
Новый руссоизм, или Женитьба Литейникова
На вопрос, где искать утешения, есть один старинный и испытанный ответ: в лоне природы.
Какая природа, где, откуда?
Но «вторая» природа навсегда останется «второй», и только в близоруком человеческом самообольщении «вторая» может вытеснить «первую».
Вспомним и об эстетической, формообразующей функции предмета изображения (или воображения).
Вспомним и о «врожденном руссоизме русского читателя». Так — пусть и с некоторой иронией — выразился В.М.Жирмунский, но все же этот руссоизм кое-что значит и кое-чего стоит, раз уж он «врожденный».
Если у С.Гонцова чувство природы связано с надеждой на «тайную волю цветенья», если И.Шепете природа, несмотря на ее «объективность», небезразлична, потому что поэт находит в ней соответствие своим внутренним «безднам», то Евгений Грюнберг предельно обостряет эти связи, переводя их в напряженные личностные отношения с помощью сюрреалистского надрыва.
В стихотворении «Литейников» тема возвращения в природный мир заявлена — в духе Заболоцкого — резко, в развернутой, материализовавшейся, обросшей сюжетом метафоре:
Литейников женился на березе,
Зимой, истосковавшись по траве,
И вены синих веток, на морозе
Цвели в его холщовом рукаве.
……………………………………..
Весной уже, когда из пиджака
Со свистом распрямлялись травы,
Четыре деревянных мужика
Литейникова отвели в дубравы.
Он пил и танцевал до ночи,
Он буйствовал на празднике Купалы,
И с тел любовников цветочных.
Струился пот, зеленый и усталый.
Персонаж Грюнберга (речь идет именно о лирическом персонаже) поэтому и избирает такую бурную, отчаянную, подчеркнуто языческую форму восстановления единства, такую актуализацию забытой сращенности с природой, что иначе этой забытости, оторванности, отделенности не преодолеть бы. В Литейникове больше от человека со стороны, истосковавшегося по траве. Не случайно у него такая «металлическая» фамилия, пародийно перекликающаяся с Лодейниковым Н.Заболоцкого. Не случайно отстраненность персонажа объективируется в сюжете, в иронии:
Бею зиму население колхозов
«Двадцатого партсъезда» и «Колосс»
Носило хлеб любовнику березы
И крало у завхоза аммофос,
Можно было бы сказать, что тема слияния с природой доведена до «концепта», если бы концептуализму были под силу живые чувства, если бы в стихах не было нешуточного драматизма. Во второй части стихотворения, приобретшего изрядную психологическую напряженность, рассказывается о другой, «неприродной», «неестественной» жизни Литейникова:
А после, до утра и без причины,
он плакал, распластавшись на песке,
И в темноте туманились картины
Жилплощади, оставленной в тоске.
В той комнате, где душно-тяжело
Дышалось водянистостью теней,
Где женщина лежала, как желток
В яичнице измятых простыней,
Где в чайниках клубились чьи-то рожи,
Где вспыхивали дрожью занавески
И каждый шаг стрелял в прихожей
Из револьвера «смит-и-вессон»
Там — то ли в подземной («душно-тяжело»), то ли в подводной — жизни, в том ненастоящем мире нереальных «водянистых теней» персонаж был настолько замордован, что каждый шаг, каждый звук вопринимались болезненно — вот почему эмоциональная окраска воспоминаний самая что ни на есть дискомфортная. И чтобы не сойти с ума, он сбежал, «женился» на природе-березе, там искал успокоения, избавления. Но, изменив жизнь, он, похоже, не может уйти от того мира, что сводил с ума, — вот в чем драма. И неизвестно, отчего плачет Литейников, оттого ли, что освободился, или оттого, что и теперь не в силах освободиться, забыть ту жизнь. Чего стоит выразительная «живопись», предельно обытовленный «неэстетичный», развенчанный образ «Эвридики», опостылевшей и брошенной. Сколько же здесь муки, жалости, вины и злости — и на нее и на себя! Если же говорить собственно о характере поэтического эгоизма, то это скорее эгоизм самодостаточного образа, которому довольно уже того, что он так написался, поэтому он и бывает капризно прихотливым, пусть и по видимости небрежным:
И станет пепел рассыпаться, меланхоличный и горячий,
Потом железная пружина забьется жалобно в часах,
И тихо-тихо монгольфьеры в своей корзиночке летучей
Взлетят над нашими домами и растворятся в небесах.
(«По спальне лодка проплывает…»)
Так что, возможно, и новый «брак» не столь гармоничен. Это, право же, очень похоже на нас, на нынешних. Оттого и нет Литейникову облегчения, что законы богооставленного существования, опустошенность души теперь — при новейшем руссоистском порыве — переносятся на природу, отравленную к тому же «аммофосом», лишенную чистоты. Вот, если угодно, печальная новизна современного руссоизма.
Хотя вот дошли по почте из Алма-Аты новые стихи, из которых видно, но крайней мере, что «земля» не дает поэту покоя:
Земляной век наступает, земляной, деточка,
Мы о ней теперь только лишь и беседуем.
(«Проходил во снах…»)
Между прочим, с теми стихами Баратынского пришел ко мне Сергей Гонцов, светлый облик которого уже присутствует в этих заметках. Он между разговорами о нынешних умонастроениях прочел наизусть:
Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.
Две области — сияния и тьмы —
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.
И мы еще позабавились этим странным для современного уха «намеком» (без ё). Стихи классика, кстати, «комментируют» и строку самого Гонцова:
Пусть все, что есть, амбивалентно!
(«Вина»)
Вот оно словечко, вот оно родимое — не шибко поэтичное, а в лирике и вовсе неуклюжее, комичное, но тем не менее декларирующее о двойственности души, самой жизни.
И от этого никуда не деться современным Орфеям, которые возвращаются из «темного» царства, неся в себе его отпечаток, вернее, неся оба мира в своих душах.
Там, в сердцах, происходит схватка.
И уж что выберешь — за то и ответишь. Как сказал недавно один умный человек, на том свете каждый по отдельности (за свое) гореть будет.
1993
Литературная критика и публицистика @ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ И СЛОВЕСНОСТИ,
№3 (март) 2005
